|
|
|
Фестиваль
Фестивалей «Мы едины, мы – Россия!» — всероссийский
проект, объединяющий существующие на территории страны
конкурсы и фестивали патриотической направленности
|
Боков Виктор
Федорович
|
Фестиваль «Боковская осень» прошел в Богородском

Литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству
народного поэта России Виктора Бокова, состоялся 18 сентября
2010г. в поселке Богородское.
Из статьи А.А.
БОБРОВА
«О
русской песне и её творцах»
В самую яркую пору подмосковного бабьего лета приходит на
землю Сергия Радонежского песенный праздник «Боковская осень». В
этом году - впервые без личного или хотя бы заочного участия
патриарха русской поэзии: прошлой осенью Виктора Фёдоровича
Бокова не стало.

При жизни народного любимца Виктора Бокова, так и не
получившего Государственной премии России, был создан, может
быть, единственный в мире Дом-музей живого поэта в его родной
деревне Язвицы, за посёлком мастеров Богородское.
Но и Переделкино было для него отечеством стиха и жизни, что
для подлинного поэта неразрывно. Здесь он жил в общежитии
Литиститута вместе с друзьями-поэтами, потом — в так называемом
стандартном доме, где писал нестандартные стихи и принимал
дорогого гостя — старшего друга Андрея Платонова.
Душа
истосковалась по друзьям,
По разговорам, по капусте
квашенной,
По клюкве Вологодской, по
груздям,
По праздникам, справлявшимся
по-нашему!
На Богородской земле «Боковская осень» справляется широко и
тепло — по-нашему, потому что всё в стихах Бокова — по-родному и
по-молодому звонко. Можно цитировать до бесконечности, но я хочу
вспомнить о жизнелюбии и естественном патриотизме Бокова. Ведь
этому балагуру, балалаечнику, шутнику пришлось хлебнуть лиха —
через край. Но ни лагеря, ни семейные передряги не очерствили
его певчую душу, однако научили мужеству. Согласитесь, ведь это
не простой шаг — написать такое «Письмо в Нью-Йорк» сыну:
Оставил ты свои берёзы
И кроны трепетных осин.
Американские морозы
Тебе не нравятся, мой сын.
Твоя душа теперь во мраке,
В объятиях чужой зимы,
А я бы предпочёл бараки
И дальний холод Колымы.
Он не считал свою молодость загубленной несправедливостью
сталинских лет — он её продлевал и в нынешние, может быть, самые
трудные годы России, являя образец отношения к поэзии, песне,
женщине. К жизни! Мы все, его ученики, младшие друзья, учились у
него этому вечному восторгу и вкусу жизни, выстраданному
оптимизму и святому отношению к поэзии, разлитой в самом воздухе
русской равнины.

































журнал «Русский дом»
В сборник вошли произведения Виктора
Федоровича Бокова,
народного поэта России, члена союза писателей СССР, академика
Академии российской словесности, кавалера двух орденов Красного
Знамени, орденов Дружбы народов, «Знак почёта», «За заслуги
перед Отечеством», автора слов песен «Оренбургский пуховый
платок», «На побывку едет…», «На Мамаевом кургане».
 Воспоминания
В. Самосонова о Викторе Федоровиче Бокове
Воспоминания
В. Самосонова о Викторе Федоровиче Бокове
 «Новые
известия», 3 Сентября 2010г.
Многострадальный идеалист с балалайкой «Новые
известия», 3 Сентября 2010г.
Многострадальный идеалист с балалайкой

Виктор БОКОВ 1914, деревня Язвицы Владимирской губернии –
2009, Переделкино, под Москвой
Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской
поэзии»
Лариса
Васильева вспоминает, как ехала в поезде, а по радио запели
«Оренбургский платок». Ей стало радостно, и она сказала
попутчице, что знает автора этих слов. Та улыбнулась: – Так тебе
лет триста, что ли? Это же народная песня.
Эта песня на слова Виктора Бокова в исполнении Людмилы
Зыкиной действительно может показаться существовавшей всегда. Но
когда песню принимают как народную, то не нарушают авторское
право, а возвышают его. Слова же здесь совсем простые, но такие
нежно-грустные, что обволакивают своей невесомой пуховостью, как
сам оренбургский платок, легко протекающий через обручальное
кольцо: «В этот вьюжный неласковый вечер, Когда снежная мгла
вдоль дорог, Ты накинь, дорогая, на плечи Оренбургский пуховый
платок!»
В Чистополе в 1942 году Боков написал стихотворение
«Загорода»: «По твоим задам Проходить не дам Ни ведьме, ни
лешему, Ни конному, ни пешему, Ни галкам, ни воронам, Ни
больным, ни здоровым…» Услышав эти стихи, Борис Пастернак сказал
автору: – Это у вас от природы. Цветаева шла к такой форме от
рассудка, а у вас это само собой вылилось.
У поэтов могут быть разные учителя, но фольклор – общий учитель.
Боков даже называл его шутливо своим «фолькормом».
Дед Виктора Бокова, Сергей Артемьевич, выдернул его будущего
отца, Фёдора Сергеевича, из второго класса, увёл в поле и
поставил за плуг. Но тот не повторил этого со своим сыном,
отпустил его в город. Судьба привела юного Виктора на другую
пашню – к Михаилу Пришвину, к Андрею Платонову, к людям,
понимавшим трагедию русской деревни, где лучших хлеборобов
выдёргивали из своих хозяйств, отрывали от кормилицы земли.
Однажды Андрей Платонов проговорил с Виктором Боковым всю ночь,
чем вызвал гнев жены, Марии Александровны: «Сколько можно
объясняться с мальчишкой?» Боков рассказал об этом случае в
стихах: «Улыбка озорная Андрея озарила, В глазах сверкнули
слёзы: – Я с Виктором, Мария, Могу вести беседу, Пока не
обветшаю!»
Да, им было о чём поговорить. Но неиссякаемая пытливость Бокова,
искренность, так трогавшая его первых наставников, были
неизбежно наказуемы, ведь для выживания требовалось или
двоемыслие, или вовсе немыслие. Когда трусливую покорность
голосовавших за беспощадное уничтожение так называемых врагов
народа снисходительно называют недомыслием, не верьте – то был
животный страх, заставлявший выдавать на расправу других по
принципу: лишь бы не меня.
В атмосфере повального доносительства под псевдонимом
патриотизма Боков взял в руки балалайку не только из любви к
ней, но и из чувства самоспасения, ибо человек с балалайкой
никак не совпадал со зловещими карикатурами на врагов.
Но и балалайка ему не помогла. В 1942 году курсант Виктор Боков
был осуждён «за враждебные разговоры» трибуналом Новосибирского
гарнизона. Освободился из лагеря в 1947-м. Как тогда говорили,
«отделался лёгким испугом». Но в том, что этот испуг был лёгким,
сомневаюсь. У всех, кто вернулся, подспудно жил страх, что за
ними могут «прийти» повторно. Боков заглушал его балалаечными
переборами, залихватскими частушками и подчёркнуто
оптимистическими высказываниями. Но и в частушки врывались,
царапая, как колючая проволока, лагерные отзвуки: «Волнами,
волнами Рожь на меже. Все мои конвойные На пенсии уже…» Добавлю:
и наверняка на гораздо большей пенсии, чем их крестники.
Сохранились стихи Бокова, сложенные «там» (тюрьма в
Старокузнецке, 1942): «По лету, по осени, В ночи, под тишок,
Схватили и бросили В тесный мешок».
В 1944 году в лагере Орлово-Розово (Кемеровская область) он
сочинил: «Товарищ Сталин! Камни говорят И плачут, видя Наше
замерзание. Вы сами были в ссылках, Но навряд Вас угнетало Так
самодержавие. <…> Я – весь Россия! Весь, как сноп, дымлюсь, Зияю
телом, Грубым и задубленным. Но я ещё когда-нибудь явлюсь, Чтобы
сказать От имени загубленных». Выполнить это обещание сразу
после освобождения нечего было и думать. Заговори Боков тогда от
имени загубленных – и на кону оказалась бы уже не свобода, а
сама жизнь. Поэтому он снова взялся за балалайку, заслонил себя
стеной хора Пятницкого.
Лишь через много лет первые бреши пробили Александр Солженицын,
Варлам Шаламов, Евгения Гинзбург, Георгий Владимов (написавший
потрясающую лагерную повесть «Верный Руслан», хотя сам не был в
лагере). Но и Боков стал возвращаться стихами в лагерные
времена. Такие исповеди, и припоздав, не запаздывают.
«Утром хлеб выдавали бесплатно, Я играл на горбушке и пел, Шли
по мне пеллагрозные пятна, Весь я, словно змея, шелестел. <…> И
зияли в земле, словно в сердце, Сотни тысяч невинных могил. По
тюремным решётчатым сенцам Как хозяин Лаврентий ходил». Иногда
Боков даже признавался, что боится запамятовать пережитое.
«Помню взлёт пирамиды Хеопса И музейный палаш на бедре. Забываю,
как бабы с колодца Носят слёзы в железном ведре».
Как-то у него судорожно вырвалось: «О, если б все замученные
встали И рассказали правду обо всём!»
Всю глубину крестьянской трагедии открывает в записках поэта
«Над рекой Истермой» исповедь его односельчанина о сталинской
коллективизации:
«Я тебе, милый человек, признаюсь, – говорит мне бригадир
колхоза Егор Семёныч Колчин, – что большевики сотворили, то и
бог не смог сделать. Раньше своего собственного – никому бы
щепки не отдал, а сейчас идёшь мимо сарая и амбара своего и даже
памяти на них нет, будто и не ты заводил!»
Но Бокова глубоко ранило и то, как вместо чаемого социализма
с человеческим лицом появилась мордяра нашего отечественного
предпринимательства, с волчьим оскалом и челюстями, запросто
пережёвывающими фабрики, заводы, нефтяные промыслы, а заодно и
незащищённых стариков-пенсионеров.
Боков написал в 1999 году: «Сеяли мы всё разумное, А неразумное
взошло! И сколько зря людей загублено, И сколько не туда пошло.
Нет мудрости, и нет решимости, И нет защиты от помех. Вовсю
трещит наш дом терпимости, И нет согласья между всех.
По-прежнему Россия корчится. Всем управляет крик «Долой!». Не
знают, чем всё это кончится Ни Бог, ни царь и ни герой!»
В отчаянье Боков даже пробовал помириться со своим врагом –
Сталиным, но слова сами восстали, сопротивляясь изо всех сил, и
получилась, по-моему, невольная пародия: «Что теперь со мной –
не пойму. От ненависти пришёл я к лояльности. Тянет и тянет меня
к нему, К его кавказской национальности!» Примирения не
состоялось, да и не могло состояться.
О многострадальном идеалисте Викторе Бокове Александр Межиров с
любовью написал: «Всё тоскую по Москве, по Бокову, По его
измученному лбу».
Я тоже тоскую по вам, Виктор Фёдорович, по вашей
неисчерпаемой неподдельности, восхищаюсь вашей доброй энергией,
отданной другим.
А недобрая энергия к недобру и ведёт. И от неё надо
решительно избавляться, навсегда оставив наконец Сталина в
прошлом, если мы хотим наладить нашу жизнь.
А ещё надо много читать, но не без разбору, а только то, что
взращивает вкус и совесть, включая ваших любимых Андрея
Платонова, Михаила Пришвина, Бориса Пастернака, Марину Цветаеву.
И почаще петь и слушать не зомбирующую попсу, а музыкальную
классику и такие чистые добрые песни, как ваш «Оренбургский
платок», дорогой Виктор Фёдорович.
* * *
Кесарю – кесарево.
Слесарю – слесарево.
Боков был с детства в книги ныряльщиком,
а его сделали шлифовальщиком.
Но замечали начальнички новые:
мысли у парня – не отшлифованные.
И околхозивание и пролетарщина –
что это было?
Горькая барщина.
Кожу сдирают,
снимаючи стружку.
Что же он выбрал?
Частушку-вострушку.
Выбрал он в мире арестов, расстрельства
мир скоморошистого менестрельства,
и драгоценная лёгкость характера
блеском алмазным
глаза окаратила.
И про него сочинили любовненько
добрую шуточку:
«Бокову – Боково»,
ибо он матом с устатку не лаялся,
а, как на ветке глухарь, балалаился
так, что девчушечки прыгали с печечек,
чтоб хоть в любви он был из обеспеченных.
Да вот спасения не получается,
если вас любят полуучастливо.
Искренность, будто бы пенная брага,
и довела его до ГУЛАГа,
ибо язык привыкает к свободочке
под поцелуи с чуточкой водочки.
И не спасла его балалаечка
от предсказания сердца болящего:
знай, что поэт – обречённая птица
и наступает пора расплатиться.
И превратился он из шлифовальщика
в доку –
в частушечника-шифровальщика
боли своей, навсегда в нём сокрытой,
но никогда и никем не убитой.
Принадлежит он к тем, кто не пришлые,
выросшие из Платонова, Пришвина,
русской земли каждый страждущий ком
нежно прикрыв оренбургским платком.
Евгений ЕВТУШЕНКО
Сибирская плясовая
Эх, бей, дроби,
Выкаблучивай,
Надо мною на Оби
Не подшучивай!
Эх, чуб волной,
Не гонись за мной,
У меня кудёрушки
Только для Егорушки.
Я уж год
Как Витина,
Моя любовь
Действительна!
Мой Викторушка, как солнышко,
По реченьке плывёт,
Держит в рученьках весёлышко
И песенки поёт!
Как у нас Иртыш-река,
Сами знаете кака.
С Обь-рекой сливается,
Счастья добивается!
1972
Вспоминая похороны Пастернака
Болит плечо от гроба
Всё нынешнее лето.
Не умолкает злоба
В тех, кто травил поэта.
– Вон! – было на плакатах.
– Иуда! – на хоругвях.
Как бездари богаты
На площадную ругань!
Бесчестили Живаго,
Клеймили дух романа.
И плакала отвага
Перед лицом обмана.
Он, как орёл в ущелье,
Он, как Эльбрус в долине,
Лежал в последней келье,
В сосновой домовине.
К нему тянулись лики,
Над ним царила ясность.
Сказать, что он великий,
Не побоялся Асмус.
Я шёл к нему в метели,
Меня всего знобило.
Великая потеря,
Великая могила.
1989
* * *
Мордастая толпа временщиков
Стояла, словно тьма, на мавзолее,
А я стоял в берёзовой аллее,
Заплатку пришивал к штанам веков.
Шли миллионы пяток по брусчатке,
А генерал натягивал перчатки
И шпорами подталкивал коня,
И время обходилось без меня.
2000
Боков Виктор Федорович – народный поэт России, член союза
писателей СССР, академик Академии российской словесности,
кавалер двух орденов Красного Знамени, орденов Дружбы народов,
«Знак почёта», «За заслуги перед Отечеством», автор слов песен
«Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет…», «На Мамаевом
кургане» и др.
Годы жизни – 19 сентября 1914 г. – 15 октября 2009 г.
|
|
 НЕМНОГО О СЕБЕ НЕМНОГО О СЕБЕ
Родился я в лесной, речной, луговой стороне. Детство мое было и
с орехами, и с грибами, и с рыбной ловлей. Речка наша Кунья
манила к себе редкостных по распеву соловьев. Сам я так полюбил
соловьиное пение, что стал высвистывать соловьиные мелодии.
Деревья наша Язвицы стояла на бугре в двадцати километрах от
Сергиева Посада. В Сергиеве Посаде жил известный писатель Михаил
Пришвин. Мы познакомились, я стал пописывать прозу, и Пришвин
признавал, что проза у меня точная, верная и поэтическая. За
прозой пошли стихи. Пришвин и стихи мои оценил.
Рядом с деревней нашей стоял завод. Я поступил туда учеником
токаря. Вьется стружка из-под резца, я за станком слежу, а в уме
складываю, продолжаю свое творчество. Печатал и стихи, и прозу в
заводской многотиражке. В цеху все звали меня «фантазер»,
«сказочник».
Позже я поступил в Литературный институт, стал печататься в
Москве. Лиха беда – начать, а там войдешь во вкус. Окончил
институт. Желание сочинять не покидало меня.
В 1941 году меня приняли в Союз писателей. Стал писать песни, их
запели хоры, исполнители. Всю жизнь свою я посвятил литературе,
поэтическому слову, о чем не жалею.
Виктор Боков
Переделкино, июнь 2005г.
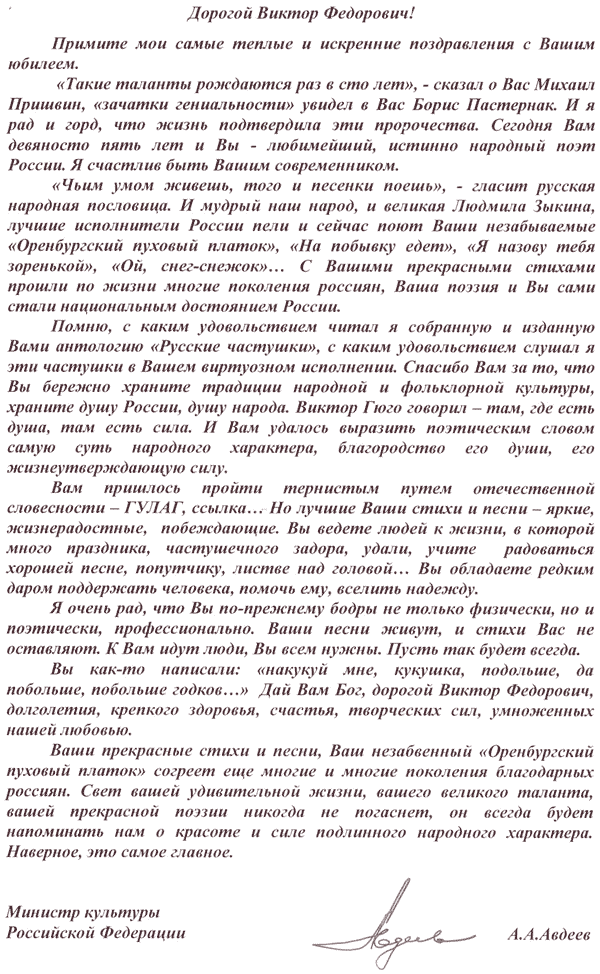
|
 СТИХИ СТИХИ
«И МОЙ НАРОД МЕНЯ
БЛАГОСЛОВЛЯЕТ»
***
Живу, не жалуясь, не горбясь,
Один девиз для всех – борьба.
Как крест несу печаль и гордость,
Презрев смирение раба.
Горячий лоб покрыт печалью,
Знак горькой боли меж бровей.
Еще один рассвет встречаю
Всей грудью смелости своей!
***
Порадуюсь свету божьему,
Дождичку и траве,
Лопуху, подорожнику,
Чистой синь-синеве.
Светлому воскресению,
Синему льну-долгунцу,
Родичам Троице-Сергиева, -
Матери и отцу.
Порадуюсь сизому голубю,
Белым платкам облаков,
Девочкам, бегущим по лугу,
Под нимбом желтых венков.
Порадуюсь теплому лету,
Беспечному крику детей,
Порадуюсь доброму свету
Добрых российских людей!
***
Жизнь моя – трава зеленая.
Донник. Клевер. Зверобой.
Речка, ветром измененная,
Нежный всплеск воды рябой.
Жизнь моя, как поле, пахана,
Боронена бороной,
Бабки жалостливо ахали,
Причитали надо мной.
Но распались все напраслины,
На ногах я устоял.
Подходи волна прекрасная,
Подари девятый вал!
***
Проходят радости.
Проходят горести,
Есть утешение –
Живу по совести!
Я зря не пачкаю
Рубашку белую
И добрым людям
Зла не делаю.
Цветет черемуха,
Душа волнуется,
И каждый счастья ждет,
И каждый трудится.
И сердце каждого
Живет надеждою,
Друзья-товарищи,
Скажите: - Где же вы?!
Гармонь певучая,
Душа открытая.
Растет трава в лугах,
Росой умытая!
***
Твой поцелуй мне был как вызов,
Я ошалел и изнемог.
Сосульки падали с карнизов
И таяли у наших ног.
О, Женщина! Ты дерзость, смелость,
Решительность, каприз, излом.
Тебе бы только захотелось,
Ты в январе добудешь гром.
Хожу доверчивый, счастливый,
Твой поцелуй в себе несу.
И поэтическою гривой,
Как лев взъерошенный, трясу!
***
Ущелья гремят
От горных, ревущих
потоков.
Не то же ли самое делает Боков?
Внизу Коктебель.
Я живу там в обнимку
с лозою.
Приду я к тебе
Иль сам, или вместе с грозою.
Как верный слуга,
Паду пред тобой на колени.
Скажу: - Ты судьба!
И с жаром примусь за моленье.
По небу полуночи ангел летел,
Мне это приснилось.
Давно высоты, чистоты я хотел.
И это свершилось!
***
В орлином клюве синева,
В орлиных перьях ветер воли.
Во мне волнуются слова
И ожиданье светлой доли.
Орел не раб, и я не раб,
Орел на высоте. Я – тоже!
Орла узреть я очень рад,
С орлом давно мы в чем-то схожи.
Вот он уселся на скалу,
Нацелил гордый взгляд в долину.
И я решил: спою былину,
Вдруг да понравится ему.
Запел, орел заволновался,
То смотрит вправо, то левей.
Он весь вниманье, пониманье,
И мне поется веселей!
***
Я на тебя не нагляделся,
Россия, родина моя.
Едва-едва восток зарделся,
Я сразу встал, пошел в поля.
Рожь наклоняла свежий колос,
Сиял глубокий небосвод.
И зазвучал знакомый голос –
Людмила Зыкина поет.
Заслушались и Дон, и Волга,
И степь, и горы, и тайга.
Притихла дальняя дорога,
Как музыка, легли снега.
Россия! Все твои гармони
И балалаечная трель
Звучат в России в каждом доме,
Звучат за тридевять земель.
Я знаю – мне Россия матерь.
Спешат за мной ее шаги.
Россию бережет Создатель.
И ты Россию береги!
***
Отечество. Мать-родина. Москва.
Я города твои сочту по пальцам.
Спасли от черной тьмы тебя войска,
Я был твоим солдатом и скитальцем.
Скажу: «Торжок» - порадуюсь тотчас,
Скажу: «Калуга» - вижу речку Яченка.
Скажу: «Тамбов» - и свет в моих очах,
И я бегу вприпрыжку, легче мячика.
Россия! Это радуга и свет,
Кто любит, только тот с тобой освоится,
Я потому в России стал поэт,
Что разглядел и оценил твои достоинства.
Не отрекаюсь от родной Руси,
Гоню взашей врагов ее непрошенных.
На всех земных путях и в небеси
Ей говорю: - Всего тебе хорошего!
***
Под сердцем матери – дите.
Лес без листвы собрался в зиму.
Что сочинил я – все не то,
Что зачеркнул – лети в корзину.
Чего, бывает, не взбредет
Нам в голову – бумага терпит.
Бессмертие не многих ждет,
Но чаще все в плену у смерти.
Да, Моцарт! Да, великий Дант!
Да, Пушкин! Счет не так уж малый.
Тут требуется всем талант,
Неповторимый, небывалый.
И все-таки пиши, мой друг!
И отдавайся вдохновенью.
Не покладай рабочих рук,
Удаче верь и откровенью!
***
Жизнь заморская – заморыш!
И Манхеттен, и Гудзон.
Мне не в диво, и не в новость
Чужестранный горизонт.
Ну, ходил я по Парижу,
Ну, смотрел на город Рим.
Я совсем другое вижу.
В ноздри лезет отчий дым.
То Калуга улыбнется,
То какой-то Сапожок.
То девчонка у колодца
Станет звать: - Глотни глоток!
То потертый с виду дьякон
Перекрестится в пути.
То накинется собака –
С этим делом не шути!
То такое, то сякое,
То долина, то бугор.
То любовь побеспокоит,
То закатит в лоб забор!
Вся Россия, как пространство,
Был Амур и вдруг – Двина.
Не могу бросать пристрастья –
Ты, Россия, для меня!
***
До самой старости,
Что метит мелом,
Живите яростно
На свете белом.
Не дотлевание,
Не дым костровый,
А волнование –
Вот основа!
В даль отправляйтесь,
Всю землю смерьте.
И не сдавайтесь
До самой смерти!
В наследство детям
Оставьте ярость.
Веселый ветер,
Упругий парус!
***
Поэзия моя проста, как хлеб с водой,
Как самые привычные понятья.
Я человек немолодой,
Играть словами не мое занятье.
Поэзия моя – поток любви.
Любви! Одна любовь – мое моленье.
И я от встречи с добрыми людьми
Готов заплакать, ставши на колени.
Какие одолел я рубежи!
Как не бодрюсь, а силы убывают.
Но человек, как тонкий стебель ржи,
Для блага всех свой колос наливает.
Простите мне мой вздох, мою слезу.
Порой и грусть поэта вдохновляет.
Я все еще иду. Вперед гляжу.
И мой народ меня благословляет!
«ПАМЯТЬ»
Память - соты пустые без меда,
Хроникер безнадежно хромой.
Помню выстрелы пятого года,
Забываю про тридцать седьмой.
Помню маленький серенький, скучный
Дождь осенний, грибы и туман.
Забываю про тесный наручник,
Про тебя, темнокожий тиран.
Помню зимние песни синицы
И вечерний пожар в леденце.
Забываю про наши темницы,
Где людей - как семян в огурце.
Помню взлет пирамиды Хеопса
И музейный палаш на бедре.
Забываю как бабы с колодца
Носят слезы в железном ведре.
|
ПОЭЗИЯ, СТАВШАЯ ПЕСНЕЙ
15 октября ушел из жизни Виктор Федорович
Боков – Поэт, Патриот, Гражданин.
19 сентября ему исполнилось 95 лет. В
этот день юбиляра чествовали земляки на родине в селе Язвицы
Богородского района Подмосковья. 26 сентября в концертном
зале имени П.И. Чайковского мы, его поклонники и друзья,
организовали в честь юбиляра большой праздничный вечер «Я
весь Россия». Сам Виктор Федорович не смог прийти на это
торжество – чувствовал слабость для такой нагрузки, но
пришли полторы тысячи поклонников его большого, незаурядного
таланта. Приветственную телеграмму прислал президент страны
Дмитрий Медведев. Министр культуры России Виктор Авдеев
пришел лично и сказал много заслуженных хороших слов,
поблагодарил Виктора Федоровича за служение душе народа,
поэтическому языку, русскому слову, русской поэзии. «Такие
таланты рождаются один раз в сто лет», - напомнил министр
слова Михаила Пришвина о Бокове». - Я счастлив быть вашим
современником.
Вечер получился на славу. Звучали песни на стихи юбиляра,
ставшие символами своего времени, принесшие ему всенародную
любовь и неформальное звание народный поэт, – «Оренбургский
пуховый платок», «На побывку едет молодой моряк», «Лен, лен,
лен», «Я назову тебя зоренькой», «Колокольчик», «На Мамаевом
кургане тишина», «Ой завьюжило, запорошило» …
Выступали академические коллективы, народные артисты и
многочисленные друзья и ученики Виктора Бокова – певцы,
чтецы, поэты.
После рассказа супруги Алевтины Ивановны о вечере-концерте
Виктор Федорович заметно просветлел лицом и не сдержал
эмоцию: «Хорошо!».
Господь дал Виктору Бокову долгую жизнь.
Можно это долголетие отнести на счет крепкой крестьянской
природы человека, его упоенности жизнью, необычайной
душевной открытостью и доброжелательностью. Сколько
«спасибо!» услышал он от самых разных, порой малознакомых
людей, искренне воспринимая это слово как самую высокую себе
награду. До последнего дня постоянно принимал он в своем
переделкинском доме друзей, учеников и почитателей таланта,
которые были, порой, втрое моложе его. Побывавшие у него
однажды, просили разрешения приехать еще, а потом привозили
уже и своих друзей.
Но, зная, что довелось перенести Бокову, какими кругами ада
провела его судьба в начале жизни, понимаешь – не все так
просто. В марте 1943 года солдат Боков «за разговоры»
попадает в ГУЛАГ. Четыре года лагерей, а потом шесть лет
работы «в стол» без надежды хоть когда-нибудь быть
опубликованным. Все переменилось с хрущевской оттепелью,
давшей свободу для жизни и творчества сталинским лагерникам.
Когда вспоминаешь великих соотечественников со схожей с
Боковым судьбой и проживших после испытаний многие годы –
Александра Солженицына, Георгия Жженова, Дмитрия Лихачева –
невольно приходишь к мысли, что долгая и плодотворная жизнь
ниспослана им как компенсация за муки, за непредание
принципов, за верность правде.
Последний сборник стихов «Лики любви» Виктор Боков выпустил
в 2004 году. В творческом строю, он оставался практически до
своего 93-летия, не теряя остроты чувств и восприятия жизни.
Но и долгий век имеет свое окончание. Виктор Федорович ушел,
убедившись, что все было не зря, что беззаветно любимая
Россия помнит, любит и чтит его, своего сына.
Светлая память светлому человеку! Вы с нами навсегда,
дорогой наш Поэт, Товарищ, Друг!
Коллектив Информационно -
консалтингового
агентства «СМИ и Бизнес».
"Богову
— богово, а Бокову — боково” МК
19.11.2009
Автор “Оренбургского пухового платка” не любил, когда его
называли поэтом-песенником
Материал: Самоделова Светлана
На фото: Поэт Виктор Боков с женой.

Поэт Виктор Боков больше всего любил
осень и ушел из жизни в эту же золотую пору. Он выпустил
более девяти сотен сборников стихов, но остался в памяти
народной прежде всего как автор песен: “На побывку едет
молодой моряк”, “Я назову тебя зоренькой”, “На Мамаевом
кургане тишина”, “Гляжу в поля просторные”, “Оренбургский
пуховый платок”. Все абсолютные шедевры, где ни слова не
убавить, не прибавить.
Побывав в гостях у вдовы поэта, наш
специальный корреспондент выяснил, как были написаны хиты и
кому они были посвящены.
“Писал стихи мгновенно”
Бревенчатый дом Боковых — самый первый в Писательском
проезде в Переделкине. На голых ветках — как новогодние
игрушки — горят красными боками яблоки.
С крыльца тянет сдобой.
— Пеку шарлотку — любимое блюдо
Виктора Федоровича, — встречает меня вдова поэта,
Алевтина Ивановна.
В сенях — плетеные корзины, заполненные
антоновкой.
— От нас осенью никто не уезжал без
яблок, — говорит хозяйка. —
Вот и Людмиле Зыкиной еще недавно грузили плоды в
багажник машины. Теперь ни ее нет, ни певицы Кати Семенкиной,
ни Виктора — они ушли один за другим, как будто
потянули друг дружку в другой мир.

Зажигая свечу у портрета мужа, Алевтина
Ивановна вспоминает, как более четырех десятков лет назад их
свела судьба:
— Я родом с Курского края. После
окончания педагогического института поселилась у тетушки в
Москве. Работая в английской спецшколе, от подруги Веры
Михайловны часто слышала похвалы в адрес поэта Бокова. И
однажды муж подруги, который писал на досуге стихи, затащил
нас обеих к мэтру в гости.
Виктор Федорович открыл нам дверь, крича что-то в телефонную
трубку. И вдруг онемел, встал как вкопанный… Вера не
выдержала: “Вы пригласите нас войти?” Хозяин опомнился,
посторонился. Весь вечер я ловила на себе его пылающий
взгляд. А через день подруга передала мне листок со стихами,
написанными Виктором Боковым. Я не придала этому большое
значение. Разница в возрасте мне казалась пропастью.
Поэту было 52, Алевтине — 29. Послания, посвященные молодой
учительнице, стали постоянными. Вскоре у Али в папке
скопилось 114 стихотворений, где были и откровения, и
признания.
Они бродили по мокрым набережным Москвы-реки. От Бокова
веяло талантом и мужской энергией. Алевтина не заметила, как
оказалась втянутой в паутину его обаяния.
— В Виктора Федоровича невозможно
было не влюбиться. Бывало, двух слов не скажет, чтобы не
ввинтить к месту частушку. Где бы ни появлялся, около него
всегда теснился народ. А знаете, как стихи у него рождались?
Мгновенно! Однажды навстречу нам попался мужчина с букетом
белых хризантем. Виктор после минутной паузы нацарапал
карандашом на клочке бумаги: “Снег на ромашке, снег на
рябине, снег на черемухе, снег на калине, снег на висках
ветеранов войны, снег пережитого, снег седины…” Он нередко
писал стихи на салфетках, в ход шло все, что было под рукой.
Вот и текст к знаменитой песне “Оренбургский пуховый платок”
Виктор написал на почтовом бланке.
Создавая в степном крае народный хор, местный обком партии
попросил Виктора Бокова написать песню о гордости края —
оренбургском платке.
— Виктор приехал с композитором
Григорием Пономаренко в Оренбург, стал ходить на репетиции
хора, шли дни, но идея песни так и не приходила. Муж не
любил писать “датские стихи” — под заказ.
Помог случай. В выходной день они попали на колхозный рынок,
где на площади стояло море степных казачек, и в руках у
каждой был роскошный оренбургский пуховый платок. На одних
красовались вышитые ландыши, на других — кисти рябины.
Виктор оказался вовлеченным в этот пестрый хоровод,
вспоминал этот поход как стихийный праздник. От мастериц он
выслушал десятки жизненных историй и понял, что платок — это
не просто головной убор, но и память человеческого сердца.
Купив понравившийся, Виктор Боков тут же помчался на почту,
чтобы отправить посылку своей маме. Пока укладывал подарок и
заколачивал ящик, сочинил стихи. На почтовом бланке остались
строки: “В этот вьюжный неласковый
вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая,
на плечи оренбургский пуховый платок!”
С почты поэт отправился прямиком в гостиницу, с порога
сообщил Пономаренко: “Гриша, я
написал песню!” В гостинице было очень холодно. В
семье Боковых сохранилась фотография, где поэт и композитор
сидят, укутавшись с головой в одеяла, и поют только что
рожденную песню.
Оренбургский народный хор, которым руководил Яков Хохлов,
разучил песню. Но она не нашла одобрения у партийной
верхушки.
— Авторам сказали: “Вы же не
отразили промысла. Ничего не сказали ни о наших
необыкновенных козах, ни о вязальщицах”. В общем,
дали понять, что песня не пойдет. Но женщины-хористки после
репетиции всякий раз исполняли полюбившуюся песню. И однажды
на праздничном концерте за кулисами один из партийных боссов
обратился к художественному руководителю хора:
“Говорят, у вас в репертуаре есть
новая необыкновенная песня. Выдайте ее на “бис”.
Песня “Оренбургский пуховый платок” прошла на ура и стала не
только визитной карточкой хора, но и своеобразным позывным
степного края.
— Первый раз я услышала эту проникновенную песню на
гастролях Оренбургского народного хора в Москве.
Женщины-хористки вышли с белыми платками-паутинками на
плечах. В какой-то момент они распахнули руки, образуя
хоровод, и у меня перехватило дыхание. Я никогда не видела
такой ажурной красоты. Спустя месяц мне передали коробку с
нежнейшей шалью. Потом у меня было немало пуховых платков,
но тот, первый, хранился у меня долго, и только недавно я
подарила его новорожденной внучке своей приятельницы.
“На юбилей пришел с огурцами и редькой”
Принято считать, что благодаря песне
“Оренбургский пуховый платок” Виктор Боков и познакомился с
Людмилой Зыкиной.
На самом деле их встреча произошла гораздо раньше. Виктор
Федорович шел к министру культуры, перед ним распахнулась
дверь, на пороге показалась статная черноволосая красавица.
Большой любитель женщин, Боков тут же выпалил:
“Постойте, вы мне нравитесь!”
Людмила Зыкина радушно улыбнулась. Виктор Федорович не
преминул заметить: “Вы влюбчивы — у
вас расщелина между зубов”. Певица отозвалась со
смехом: “Это точно! А вы?”
Боков подмигнул: “А я
сверхвлюбчивый. Меня за это Пушкин и любит...”
Деревенской непосредственности Бокову было не занимать.
Однажды он признался, что воронежские
бабы, певшие для него в командировке в Кисляе, преподали ему
за один вечер больше, чем весь Литинститут.
Было дело, на юбилей Хора русской песни Центрального ТВ и
радиовещания поэт Боков явился с большущей корзиной, полной
редиски, помидоров, огурцов, редьки. Столы ломились от
красной рыбы, копченых колбас и икры. Виктор Федорович кинул
клич: “Кто любит редьку? Ко мне!
Кто любит огурчики? Ко мне!..”. И весь хор пошел
к столу Бокова. Среди тех, кто угощался, была и Людмила
Зыкина.
— Песню “Оренбургский пуховый платок”
исполняли многие, но она ассоциируется только с Зыкиной.
— Людмила Георгиевна пела ее на любом концерте. Песня была
созвучна ее образу простой русской женщины, стойкой,
семижильной в труде, незлобивой и сдержанной. Я видела, как
женщины на концертах плакали под эту песню. С Виктором у
исконно русской певицы были очень теплые отношения, он ее
иначе как Людой и не называл.
— Доводилось слышать отклики: “Это
как же нужно было любить свою мать, чтобы написать такую
песню?”
— Мама у Виктора была удивительной женщиной. У нее был
высокий голос. Она великолепного пела, как говорил Виктор
Федорович, “завивала”. Обладая абсолютным слухом, она не
терпела фальши. Когда они шли с полдён — с дойки коров — и
пели, и если кто “давал петуха”, она сразу замолкала. Не
зная грамоты, Софья Алексеевна очень образно говорила.
Виктор считал мать поэтом, не рифмуя, она говорила
по-народному, рассыпая редкие образы устного слова. Бывало,
бабы поругавшись, просили их примирить. Софья Алексеевна
отвечала: “Сами закипели, сами и
раскипайте!” Она “ростила” и “пасила” шестерых
детей. Когда лежала в больнице, к врачу обращалась:
“Досточтимый доктор”.
С Виктором у нее была связь на уровне телепатии. Муж точно
знал, когда Софья Алексеевна заболевала, он до минуты
почувствовал, когда она в 73 года уходила из жизни.
— В гости к Бокову наведывался коренной оренбуржец Виктор
Черномырдин?
— Виктор Степанович родом из Оренбургского края, казак.
Приезжая к нам на 80-летие мужа, он признавался:
“Песня “Оренбургский пуховый
платок” — моя судьба. Когда я ее слушаю, у меня на глаза
наворачиваются слезы”. Гость рассказал, что их у
матери было пять детей. Они росли без отца. Чтобы поднять
ребятишек, их мама — Марфа Петровна — вязала оренбургские
платки и продавала их на базаре. А дети помогали ей
обрабатывать пух, очищая его от грязи и волос. Виктор
Степанович рассказывал, как они с братьями и сестрами трижды
прочесывали сырье на гребнях, стростили пуховую нитку с
ниткой натурального шелка, мотали в клубки, мыли, натягивали
связанные платки на раму. Премьеру Черномырдину и поэту
Бокову было о чем поговорить.
Виктор Федорович не единожды бывал в
Саракташском районе, где жили талантливые
рукодельницы-пуховницы. Он знал все тайны производства шалей
с кистями, теплых платков и палантинов ажурной вязки.
Мастерицы показывали поэту авторские рисунки, которыми
украшали платки. Боков знал, что иногда они копировали для
этой цели морозные узоры окон. Рисунки носили затейливые
названия: “кошачьи лапки”, “шашечки”, “тройная ягодка”,
“круглая малинка”, “пшенка”. “Шиком” у пуховязальщиц
считалось, чтобы изделие проходило через кольцо и помещалось
в гусином яйце.
Сидя под яблонями у дома Бокова, премьер Черномырдин вместе
с поэтом под гармонь выводили:
“Пусть буран все сильней свирепеет, мы не пустим его на
порог. И тебя, моя мама, согреет оренбургский пуховый
платок”. Было ясно: силовые линии их душ имеют
одно направление.
“Уходил петь в поля”
— Виктору Федоровичу, написавшему “На
Мамаевым кургане тишина. В том кургане похоронена война”, не
пришлось воевать?
— В 1942 году он стал курсантом военного училища, 19 августа
того же года прямо в палатке Виктор был арестован.
“Особисты” прочитали его письмо родителям, где он жаловался
на то, что их плохо кормят. Приплели ему и недозволительные
“разговоры”, в результате осудили по 58-й статье и отправили
на пять лет в Сиблаг.
Выжил за колючей проволокой Виктор Боков благодаря
недюжинной физической силе и стихам.
Земляки помнили, что будущий поэт в молодости поднимал с
земли четыре мешка в сто килограммов и грузил их на машину.
Бывало и 70-килограммовую доярку, как сноп, над головой
вертел! В сибирском лагере, сплавляя в ледяной воде лес и
стоя на морозе у весов, взвешивая свиней, он потерял свой
сильный голос.
Вернувшись из ссылки, восстанавливал голос весьма
своеобразно: приняв “бальзам” из сока свеклы, моркови,
редьки, сахара и водки, уходил петь в поля.
— Какую из песен на свои стихи Виктор Боков любил больше
всего?
— Ему вообще не нравилось, когда его называли
поэтом-песенником. Он считал себя поэтом с большой буквы.
Песни он начал писать… по необходимости. В 50-х годах в
Москве проходило совещание самодеятельных композиторов по
созданию новой песни. Виктор вел на нем семинар, искал и
редактировал тексты для песен. Не найдя в толстых
литературных журналах подходящих текстов, он принялся
сочинять их сам.
Когда на радио собирался художественный
совет, многие побаивались Виктора Федоровича. Кроме слуха, у
него была идеальная музыкальная память. Он точно знал, кто и
откуда позаимствовал определенную музыкальную тему или
фразу. Например, автор песни на стихи Демьяна Бедного “Как
родная меня мать провожала” Васильев-Буглай пытался учить
Бокова писать песни ровно до той поры, пока тот не указал на
полное сходство его мелодии с украинской песней:
“Шо ж то за шум учинився — то комар
на мусi женився”. Боков нередко подходил к
маститым композиторам и говорил:
“Скажи честно, ты же припев взял из …”, — на него
шикали: “Молчи, молчи”.
— Неудивительно, что, не имея музыкального образования, он
стал сочинять музыку к своим песням.
— Отдавая сочиненные тексты, Виктор Федорович неизменно
расставлял акценты, на которые должен был обратить внимание
композитор. Но потом случилось, что все его соавторы ушли из
жизни: Гриша Пономаренко попал в автокатастрофу и погиб,
Аверкин умер от болезни сердца, не стало Жени Кузнецова,
Родыгин уехал в Израиль... Лежа в больнице на Каширском
шоссе со вторым инфарктом, муж под одеялом, чтобы никого не
беспокоить, напевал по ночам на диктофон мелодии. Певица
Лена Калашникова “перенесла” их на нотный стан, и теперь эти
песни звучат в ее прекрасном исполнении.
Бок о бок с Пастернаком
О Викторе Бокове написано немало статей,
снят фильм. Но, по мнению племянника Николаса, живущего ныне
за границей, все они во многом лживы. Ради исторической
правды он напоминает, что первой женой его именитого дяди
была замечательная женщина — Евдокия Ивановна Фесенко,
которая родила Бокову двух сыновей: Константина и Алексея.
“В начале 60-х в жизни поэта
появилась Ирина Ермакова, из-за чего произошел его разрыв с
женой, кончившийся разводом”, — рассказывает
Николас.
Первая жена поэта рано ушла из жизни. Старший его сын,
Константин, закончив Строгановку, стал художником и уехал в
США, младший, Алексей, работает инженером в Черноголовке.
Но, как обмолвилась вскользь Алевтина Ивановна, у Виктора
Федоровича есть еще и дочь. Кто ее мать — остается только
догадываться. Известно, что поэт еще в молодости так
мастерски играл на балалайке, что от любой гармони, от
любого баяна девчонок уводил пачками.
В последнем браке с Алевтиной, продлившемся 42 года, у поэта
не было детей. “Единственным моим
дорогим ребенком был Виктор Федорович”, —
подводит итог хозяйка.
* * *
Людмила Зыкина отметила 80-летие и через
три недели ушла из жизни. Виктор Боков отпраздновал свое
95-летие, и через месяц его не стало.
…На столе в доме Боковых смешались поздравления с днем
рождения и телеграммы с соболезнованиями.
— У нас почта плохо работает,
— замечает хозяйка, перебирая в руках два пуховых
оренбургских платка. Одним из них Алевтина Ивановна
укутывала ноги мужа, другой набрасывала ему на плечи. Они
согревали поэта до самой смерти.
“Чуда не запретишь…”
МК сентябрь 2009
Поэту Виктору Бокову исполняется 95 лет
Материал: Копылова Вера, 18 сентября
На фото: Виктор Боков
 Немногие
теперь знают, что “Оренбургский пуховый платок” не народная
песня. Автору этих и множества других стихов, замечательному
поэту Виктору Бокову, сегодня исполняется 95 лет. Прожив
громадную жизнь, отвоевав, отсидев в лагере, пройдя со
страной весь ее болезненный путь, сегодня Виктор Федорович
тихо живет со своей супругой в переделкинском домике с
яблоневым садом. И не жалуется на жизнь, и “великостью” не
кичится… Немногие
теперь знают, что “Оренбургский пуховый платок” не народная
песня. Автору этих и множества других стихов, замечательному
поэту Виктору Бокову, сегодня исполняется 95 лет. Прожив
громадную жизнь, отвоевав, отсидев в лагере, пройдя со
страной весь ее болезненный путь, сегодня Виктор Федорович
тихо живет со своей супругой в переделкинском домике с
яблоневым садом. И не жалуется на жизнь, и “великостью” не
кичится…
О поэте рассказывает его жена Алевтина
Ивановна.
— …Виктор Федорович — поэт
народный, который любит людей, и они его любят. Он объехал
всю Россию. Но не стал монументом, а остался настоящим
русским человеком, с русскими традициями — как есть, пить,
как копать землю, как сад посадить… Человек большой мысли.
Когда в перестройку все растерялись, он сказал: а почему я
должен теряться? Я поэт, я им и останусь.
— Знаменитые песни на его стихи: “Оренбургский пуховый
платок”, “На побывку едет молодой моряк”… А еще?
— “Я назову тебя зоренькой”, “Снег
на седины”, “Белая березонька”… А как он работал с хорами!
Оренбургский, Омский хор — целые программы. Вот, кстати, как
родилась эта песня про платок: он приехал к Оренбургскому
хору и пошел там на рынок. Там стояли десятки женщин,
торгующих этими платками. Он выбрал платок для мамы и пошел
на почту его отправить. И когда ящичек с посылкой забивали
гвоздиками, у него и родилось это стихотворение. Этой песне
уже больше 50 лет.
Он родился в
Язвицах, под Сергиевым Посадом. Сейчас там открыт его музей.
А тогда он работал токарем, и к ним приехал Пришвин. Среди
молодых поэтов выступал и Виктор Федорович. Пришвин его
заметил. “Стихи ты читал незрелые, сырые пока, но ты очень
красиво волновался. Учись, ты обязательно будешь поэтом”. А
какие письма он писал ему в лагерь! Поддерживал его…
— Посадили “за разговоры”?
— Он был призван на войну, и, когда
он учился в ускоренном военном училище, по ложному доносу
его арестовали и осудили. Пять лет он отсидел в Кемеровской
области. Знаете, он мало про это рассказывает. Я ведь с ним
всего 40 лет, я этого не застала. Ведь потом — как это
называется — “за 101-й километр”. Он не мог жить в крупных
городах… На вольном поселении был. Работал зоотехником,
выращивал свиней, изобрел даже какой-то метод холодного
опороса… И только потом, уже с начала 60-х годов, потеряв
столько времени для творчества, он ворвался в литературу.
Круг молодых — Евтушенко, Вознесенский и другие — очень его
принял, хотя они были на 20 лет его моложе.
— А сейчас снова новое время. Поколение пепси… Поэзия совсем
не в чести. Трудно вам, наверное?
— Нас спасает наш дом и сад. Он
называет его “наша усадьба”. Он всегда умел посадить,
вырастить его своими руками. А потом, еще есть люди, которые
любят, покупают его книжки. Небольшие, но гонорары идут. Он
никогда не был в забвении, и сейчас не в забвении. Да,
трудно. Но Виктор Федорович всегда говорит, что надо
довольствоваться тем, что тебе дано. А что-то другое… Как-то
уже и не надо ничего.
«Стихи сами на меня идут»
Поэт Виктор Боков - очаровывает с порога. И не светскими
расшаркиваниями, а стихами. Горячими - только что с машинки.
Для восьмидесятичетырехлетнего человека уж больно
авангардными. Про шоубизнес, бальзакоживопись и
неокантианство. Я - в шоке. Ожидаешь балалайки с ложками, а
получаешь компьютерную симфонию.
Робко спрашиваю: - Что это? Подражание
Вознесенскому?
- Да вы что! - Боков
возмущен моей бестактностью, - ему
это никогда не приснится! Никогда, ни в страшном, ни в
сладком сне! А вот послушаете, что я написал Борису
Николаевичу, Гаранту:
Когда вы орден прикрепили к лацкану,
Сказав: - Живи, поэт России!
Я не кричал в ответ - Да здравствует!
Я скромно выронил: - Спасибо!
- Я получал
орден в Кремле и тихо сказал Ельцину "спасибо". И всё...
- А какой орден?
- А я забыл. Давайте посмотрим.
И мы разглядываем в коробочке орден «За заслуги перед
Отечеством» со слегка похудевшим державным орлом. Есть еще
другие ордена - советского времени - Трудового Красного
Знамени и Дружбы Народов. Из тех, которые на даче. Но больше
наград Боков гордится книгами с автографами Платонова,
Пастернака, письмами Шолохова. Мы долго эти реликвии
рассматриваем.
- Ничего, что тут мои портки висят?
- между делом кивает поэт на веревку, где и впрямь красуется
весьма прозаическая деталь мужского туалета. Я шалею:
- Ничего...
...А балайка-таки звучит. Боков кажется таким простецким,
оптимистично-развлекательным, вроде бы он парень в веселом
ситце и на базаре кренделями торгует. Не счесть калачей,
бубликов и румяной сдобы. Эх, подходи честной народ,
раззевай рот!
Рот у меня начинает слегка закрываться - первое удивление
проходит. А Виктор Фёдорович вздыхает:
- Эх, милая, кабы ты все знала обо
мне, ты бы села роман писать!
- А кто-нибудь пробовал?
- Пробовал. Один профессор. Но
честный человек оказался - бросил. Извини, говорит, охватить
тебя не могу...
Вероятно, меня спасает отсутствие ученых званий и молодое
нахальство - между мной и Виктором Фёдоровичем дистанция
огромного размера - больше чем в полвека. Роман не роман, а
что-то из нашей переделкинской встречи вышло. Большая жизнь
в крошечных новеллах.
Откуда вы?
Я оттуда, где ветер волён,
Где вода в половодье шальная,
Где кивает головками лен,
Голубые соцветья роняя.
Я оттуда, где лес как стена,
Где по займищам бродят зайчихи,
Где душа от гармошек пьяна,
От медовой июльской гречихи.
.......................................
Я и спеть, и сплясать, и скроить,
И прогнать хоть какую усталость.
Мне святое упрямство в крови
От крестьянского плуга досталось.
Виктор Фёдорович спрашивает:
- Ты с Воронежа?
- Я из Калача. Есть Калач-на-Дону, волгоградский,
сталинградский, прославленный, а наш пока неизвестный.
- Ай ча-ча, ай ча-ча, наша Лида с
Калача! Ну а что там есть поблизости, какие названия?
- Лиски, Бутурлиновка...
- Так милая моя, я сам воронежский,
мы земляки с тобой!
- Какой же вы воронежский, если вы из-под Сергиева Посада...
- Это так, но я по всем статьям
воронежский. Я духовно и песенно родился там в 1937 году.
Поехал в Воронеж в командировку, собирал песни, пробыл
месяц, вернулся в Москву, меня исключили из Литинститута за
непосещаемость. А я слушал в Кисляе баб воронежских, они
меня любили, целовали, когда я уезжал, плакали. Плакали!.. Я
им покупал пряники, водку на стол ставил - бабы, давайте
спляшем, давайте споем и пошли, пошли [поет барыню, очень
заводную]. Эх-эх, эх!.. Чудо, как они пели, как плясали, я
же ночи напролет с ними просиживал! Приехал из Воронежа, по
тридцать песен один исполнял, концерты давал профессорам.
Массалитинов в ту пору ходил в протертых штанах, песни писал
бездарные, абсолютно. А я с бабами связался, я нашел в них
великий, величайший талант, так они пели эти песни! Да не
один профессор с ними не сравнится! Приехал в Москву Андрей
Платонов, он же ваш, воронежский, я ему пел, он плакал. Так
что Воронеж мне счастье дал. Мне преподали бабы воронежские
за один вечер больше, чем весь Литинститут...
Писательские университеты
- Ну а институт-то закончили?
- Я два института закончил! Я
поступил на пятый курс ИФЛИ, был на одном курсе с
Твардовским.
- А Литинститут?
- Господи! Что там кончать! Учился
я вместе с Константином Симоновым, Сергеем Смирновым,
Сергеем Васильевым, Михаилом Матусовским, Василием
Журавлевым, Алекссем Грязновым. В Союз писателей меня
приняли в октябре 1941 года, опросным путем. За меня
поручились Борис Пастернак, Валентин Катаев, Андрей
Платонов, Всеволод Иванов...
- А потом, судя по стихам, вы пропали на некоторое время.
- Ха, пропал! - негодует
Боков, - милая моя, да я сидел!
Сидел с 42-го по 47-й в Сибири, в Кемеровской области. Там
теперь в музее есть стенд, доска - "Здесь сидел Виктор
Боков".
- Расскажите!
- А что рассказывать? Арестовали,
посадили, я сидел.
- За что?
- Оклеветали. Что я ругал советскую
власть, хотел, чтоб Гитлер пришел к нам... Чтобы быть
русским писателем и не быть каторжником... Компания
"сидельцев" известная - Федор Достоевский, Александр
Солженицын, Варлаам Шаламов, Борис Ручьев, Ярослав
Смеляков... Вот такие "университеты".
Бычье сердце
- Сначала сидели в камере - по
сорок человек - это ужас, ужас. Потом стали на работу
выводить в поселок. Освоился. И вот забивали мы на бойне
быка - огромного, племенного. Ему в сердце проволока попала.
Ребята отдали мне бычье сердце. А как в зону пронести? Зимой
дело было. Спрятал я это сердце под кожух, зажал под мышкой,
иду. На входе контроль. Охрана спрашивает: что несешь?
- Ничего, - говорю. -
Хотел кабана украсть, не разрешили,
- все с шутками, прибаутками. А у
самого сердце - бух-бух-бух, как у раненого быка - застукают
- и всё - жди ШИЗО, побои, голодуху. И сердце бычье, вроде
бы тоже, кажется мне, бьется, помогает. Прошел через вахту.
Пять метров, десять по зоне иду. И тут бычье сердце оплошало
- выскользнуло из-под мышки, летит вниз, на дорожку. Я его
раз - и ногой отфуболил. В сторону. Горячее еще сердце было
- в снег ушло, без следа. А собственное ухает, в груди
мечется - по периметру зоны вышки, на вышках охрана, вся
территория как на ладошке, кругом смерть и несвобода. Пошел
в барак, унял свое сердце, но как же с бычьим быть?! Жалко.
Полуголодные ведь сидели. Вернулся на улицу. Тук-тук -
сердце стучит, лают сторожевые собаки. Тук-тук, подошел к
месту, где бычье сердце в снегу дыру провертело. Тихо,
буднично лежит. Тук-тук, нагнулся, одним рывком его под
одежду, на старое место. И пока шел к бараку, в груди
пулеметные очереди стучали, те, которые в меня охранники
должны были выпустить. А бычье сердце с братвой арестантской
сварили и съели - ну, пища богов!..
Кавалер Золотой Звезды
- Выпустили меня в поселок. Стал я
зоотехником большого хозяйства, свинарки, доярки, скотники у
меня в подчинении, и все любили. Я не могу этого даже
передать - как они меня любили! А я вкалывал по двадцать
часов в сутки, без отдыха-роздыха, спал урывками, и вместе
со своими людьми вытянул хозяйство в передовые. Все знамена
переходящие мы собрали, все грамоты и благодарности. И меня
даже представили к званию Героя Социалистического Труда. Но
не доходя до верха документы стали - как это, зэка и Герой
Соцтруда?! Обидно.
Самое поэтическое средство из всех непоэтических
- Бориса Леонидовича Пастернака я очень
уважал, ценил, а он меня очень любил. Однажды прихожу к
нему, вижу, расстроен чем-то. Пастернак как раз работал над
Шекспиром.
- Что-то случилось?
- Да вот, - говорит, - звонили из "Известий", ругают меня,
что я плохо перевел. А посмотри - вот подлинник,
двусмысленности здесь быть не должно. Ну, я слушал их,
слушал и послал на ...
Я был в восторге от его поступка, руку ему жал. Умницу
Пастернака, культурнейшего человека, какие-то хамы
безграмотные будут учить!
- А вам приходилось выражаться подобным образом?
- А как же! Это средство, может быть, последнее для спасения
русской интеллигенции. Во времена моей Сибириады я, как
зоотехник, вез на машине свинные туши. К поезду товарному,
на фронт их должны были отправить. Вдруг машина ломается. В
чистом поле. А это же верная смерть - остаться наедине с
тушами в нашем краю - ночью все растянут, и тебя будет ждать
либо пуля, либо вторая решетка. Вдруг навстречу - редкая
удача - идет грузовик. Поднимаю руку, останавливаю. Шофер
везет уголь. Я открываю кабину и с отборнейшим матом
приказываю ему немедленно сгрузить уголь и погрузить туши,
свезти их на станцию. Говорю: "Если ты не исполнишь, то
будешь расстрелян сегодня же, в одиннадцать часов ночи!"
Всё! Как миленький повез! Таких случаев у меня много было. В
Сергиевом Посаде, помню, была страшная собака, гроза всего
города, и вот она навстречу мне, на узкой тропинке,
вываливает. Ростом выше теленка. Я как рявкну на нее матом -
она посмотрела на меня так жалобно и робко и - ушла. Даже не
оглянулась ни разу!
Память
Память - соты пустые без меда,
Хроникер безнадежно хромой.
Помню выстрелы пятого года,
Забываю про тридцать седьмой.
Помню маленький серенький, скучный
Дождь осенний, грибы и туман.
Забываю про тесный наручник,
Про тебя, темнокожий тиран.
Помню зимние песни синицы
И вечерний пожар в леденце.
Забываю про наши темницы,
Где людей - как семян в огурце.
Помню взлет пирамиды Хеопса
И музейный палаш на бедре.
Забываю как бабы с колодца
Носят слезы в железном ведре.
- И как вы теперь, на солидном склоне
лет, относитесь к отцу и деспоту народов?
- Сложно. В 49-м, после
освобождения, я дрожал и горел несколько месяцев, я
собирался убить. А сейчас... Что, другие после него лучше
были? Этот хоть великую войну выиграл, державу после себя
оставил, а не мировую побирушку. Серьезный был человек Иосиф
Виссарионович.
Бабьи слезы
- И вот я вышел после отсидки, зажал раны
и двинулся по земле. Хорошо ли, плохо ли, но я и в жизни, и
в поэзии, избрал путь оптимиста, а не путь нытика. Помню,
зимой, в Сибири, едут две женщины на санях, и плачут, слезы
льют. Запрыгнул я к ним, начал говорить, и такую жизнь
счастливую себе придумал - у них слезы высохли. Я -
скиталец, зэка, раздетый, нищий, бесправный. Они мне
говорят: "Мы вам по-хорошему завидуем. Есть же на свете люди
счастливые!" - вздыхают. А я им еще и подмаргиваю. Слово
должно поднимать людей к жизни, а не толкать в могилу.
* * *
Изо всех текучих рек России
Воду пил я и поил коня.
На крыльцо хлеб-соль мне выносили
И встречали песнями меня.
И сажали в угол под иконы,
И несли с капустою пирог,
И глядел сурово мой знакомый,
Древний, окривевший с горя бог.
Пристани, разводья, полустанки,
Лапти, лыки, валенки и хром.
Молнии, прибои и раскаты -
Все срослось навек во мне самом.
Вся моя душа - пехтень и короб,
Песен в ней - что осенью опят,
Все они, как бабы у задворок,
Радуются, плачут и вопят.
Я стою, как мастер корабельный,
Паруса чиню всю ночь в порту.
И звенит восторг мой беспредельный,
И слова колотятся во рту.
Сила
- Дед мой, Сергей Артемьевич, был знаменитый на всю округу
силач. Двадцать пудов соли в одном куле поднимал. Или лошадь
за задние ноги стреноживал. А в кулачных боях ему равных не
было. Приехал знаменитый боец из Москвы, ходит, похваляется.
Ну, сошлись. Дед ему говорит: "Бей первым". Тот размахнулся,
как саданет в висок. Дед покачнулся, но устоял. Теперь его
очередь. И вот дед как трахнул гостя по башке - всё... На
рогожку. Замертво с одного удара. Дед ведь со сруба мог
взять бревно, положить на плечо и вертеть им, как
коромыслом.
Конечно, я выжил только благодаря силе своей. И стихам. Что,
в принципе, одно и то же. Рахитик звонкой строкой мир не
удивит. В молодости я поднимал с земли сто килограммов в
двух руках, и вверх, на машину. Или семидесятикилограммовую
доярку - как сноп над головой держал! Я поднимал два мешка
по пять пудов зерна и нес - правда, там были девушки, и это
придавало сил!
Один раз в жизни, разъединственный, видел я Павла Васильева.
Стою во дворе Литинститута, вдруг подходит ко мне красивый,
буйнокудрявый парень. Руку протянул:
- Студент?
- Студент.
- Частушки знаешь?
Да я ему целые короба их вывалил! Потому что не было
человека в стране (и нет, а может, уже и не будет), который
бы лучше меня частушку знал! Внимательно слушает, остро. На
прощание спел мне одну, неизвестную, хулиганистую. Руку
пожал: - Ну, бывай.
И пошел, прямо, размашисто. На пути у него заборчик
небольшой был, из штакетника. Он его не замечает, не
сворачивает. Напролом. Дощечки - хрясть - под каблуками.
Ушел, не оглянулся. Таким я его запомнил.
На девятом
десятке
- А в каком возрасте лучше пишется?
- Боюсь хвалиться, но мне никогда
так не писалось, как в последние годы. Пишу - рождаюсь,
возрождаюсь. И самое большое чудо - это не стихи, а строка,
которая слетает с неба и садится на подоконник. Я ничего не
выдумываю, не вымучиваю, стихи сами на меня идут, слова
ползут, строфы летят. Что за чудо наше ремесло! Слово -
основа, а я с ним без дрожи общаюсь, на равных, ну, это все
равно, что с Господом Богом на дружеской ноге.
Вот я утром встал, рано, по-птичьи; вдохнул, а стихи уже
меня дожидаются. И за утро написал шесть стихотворений. Не
какая-нибудь там графомания, а поэзия! Все, что написал,
сегодня же перепечатал, дату поставил и в очередной
поэтический том подколол. У меня - 68 томов, сейчас пишу
69-й.
- Вы просто чудо какое-то поэтическое! Легенда ХХ века.
Причем живая, что немаловажно.
- Не говори. Сам себе удивляюсь. А
хочешь, покажу тебе мой лучший портрет? Он у меня висит на
видном месте.
- Ну, какой разговор!
И Боков меня ведет к стене, где развеселый, обаятельный
козленок наяривает на балалайке! Немая сцена. Ай да Боков!
Вопрос вопросов
- Виктор Фёдорович! Говорить с поэтом и не спросить его о
любви, об отношении к женщине, даже как-то неприлично...
- Неужели я мало сказал?
- недоумевает Боков. - Ну так
слушай: погубила меня в молодости жалость. Пожалел я
женщину...
- В том смысле, что женились на ней?
- Нет, в том смысле, что женившись,
послушал ее и раз, и два. Из-за этого вся моя жизнь пошла
наперекосяк - и отсидки, и страдания, и потерянные годы.
- То есть, все зло от женщин?
- Все зло от зла.
- Ну а как же вы, такой орел, могли в молодости
промахнуться, так женившись?
- Это вопрос, да...
Счастье
- У меня сундуки писем. Один
читатель пишет: "Несмотря на то, что ваши стихи
неправильные, они мне очень нравятся". Песни мои живут. Люди
ко мне идут. Я всем нужен. И стихи меня не оставляют.
- А без чего поэт жить не может?
- Без совести. Без таланта.
- Вы счастливый человек?
- Я не знаю. Наверно, да...
- А смерти не боитесь?
- Я о ней не думаю. Не
напрашиваюсь. Но если придет - что делать!
- Как это вам удается: не думать?
Боков смеется: - Сам не знаю...
Да, веселый поэт Виктор Боков... Встреча наша долго еще
длилась, наполненная смехом, радостью, шутками, прибаутками,
звуками гармони, голосами птиц - окно настежь, а почему бы
майской птице и не попеть вволю?! Боков кому хочешь праздник
устроит, и не чета кремлевским посиделкам - вот и
Черномырдин, будучи председателем правительства, приезжал
поэта поздравить, два часа просидел, как две минуты,
отдохнул как за два месяца беззаботной жизни... Праздничный
Боков, веселый, а грустный. Дума веселой не бывает, и поэт
свое жизнерадостное, оптимистичное искусство, расписное, как
дымковская игрушка, ну, не из воздуха же рождает?! Много,
много радости и счастья рассыпано по земле, ходи, подбирай,
пой, не подличай, не завидуй, муза твоя будет травная,
веснушчатая, босая, шаловливая, верная, берегущая и
сберегающая. Все так и все не так. Жизнь, самая счастливая,
все равно трагедия, а в "боковской весне" какие заморозки
играли! Грустный поэт Боков, думающий, но запрыгнул он в
русские литературные сани, и как тем рыдающим бабам в
Сибири, решил рассказать читателю жизнь иную, придуманную,
сочиненную, в которой много веселья, частушечного задора,
дроби, дроби пляса да превозмогающей удали. Лучшая его песня
- "Оренбургский пуховый платок" - прощающая. Лучший его
портрет - в саду, у осенних костров из опавших листьев, -
тоскующ. Лучшие его стихи - радостные, побеждающие - из
ночных бессонных раздумий, да еще оттого, что у самого края
жизни постоять пришлось не раз, не раз и в бездну заглянуть.
После темниц - солнце краше, небо выше, воздух чище, жизнь
бесценней. Света, много света, в стихах Виктора Фёдоровича,
того, что не "лампочками Ильича" рождается, а мятущейся
душой...
- Как вам видится будущее России? - спрашиваю я поэта.
- Никак. - И он на
единственную секундочку сникает.
...А может, не Боков грустный, а я печальная? Нет, не ищу я
горя и беды, не зову тоску-кручину, не выбираю черных слов,
сторонюсь уныния. Но - печальная, улыбаясь. В тех сибирских
санях, может, и я тоже ехала? Слезы мои высохли. Не потому,
что в судьбу, сочиненную в десятках поэтических книг
Виктором Боковым, поверила. Просто, мне показалось, что я
поняла его лучше многих... Ну, а если ошиблась, читатель
внимательный, думающий, читатель деревенский и городской,
уральский и подмосковный, рабочий и крестьянский, ученый и
литературоведческий, местный и заграничный, юный и убеленный
сединами, он, читатель любящий, обязательно меня поправит...
Это высшее бескорыстье -
Счастье жизни ловить стихом
Или где-нибудь тихо под листьями
Течь холодным лесным ручейком.
Кто пройдет - припадет и напьется,
Кто услышит стихи - оживет,
В том дремучая сила найдется
Бросить плечи сквозь чащу вперед.
Я - поэт. А поодаль сквозь ветви
Бьет о ствол топором лесоруб.
От него разлетаются щепки,
Как слова с моих пламенных губ.
Накукуй мне, кукушка, подольше,
Да побольше, побольше годков,
Чтобы шел я и черпал в ладоши
Голубой разговор родников.
Чтобы весь я светился под листьями
В милом детском семействе берез,
Чтобы людям свое бескорыстие
Через все испытания нес.
июнь 1999
Лидия Сычева
© "МОЛОКО" Русский литературный журнал
Владимир ДАГУРОВ
ПАМЯТИ ВИКТОРА БОКОВА
Без Бокова похолодало –
В природе тепла стало мало,
И слёзы дождей октября
На землю летят не зазря.
Без Бокова осиротела
Берёза – листва облетела,
И речка домашняя Сетунь
Заплакала – сетуй, не сетуй:
Поэт не пройдёт по мостку
И нам не подарит строку.
И даже лесная ворона
Черней от такого урона…
…Но всё же летают страницы
В руках, словно белые птицы,
И в них оживают слова,
Что не оторвать соловья
От зарослей, от родника…
…Но холодно от сквозняка!
21 ноября 2009
* * *
Боков похоронен
рядом с Пастернаком –
Это оказалось
символичным знаком:
Оба жизнь любили,
оба рядом жили:
Город и деревня
головы сложили.
Пастернак услышал
Боковскую песню:
Соловьиной трели
в мире нет прелестней.
И письмо в «Совписе»
получил издатель:
«Вместо моей книжки
Бокова издайте!»
Боков жив в природе,
в людях, в жёлтой роще.
Гениальна песня
та, что нету проще!
«На побывку едет
молодой моряк –
Грудь его в медалях,
ленты – в якорях!»
И во всех застольях,
свадьбах, днях рожденья
Раздаётся это
Боковское пенье!
Люди полюбили,
Бог его услышал –
Спит он рядом с храмом,
под небесной крышей!
21 ноября 2009
|
|
|